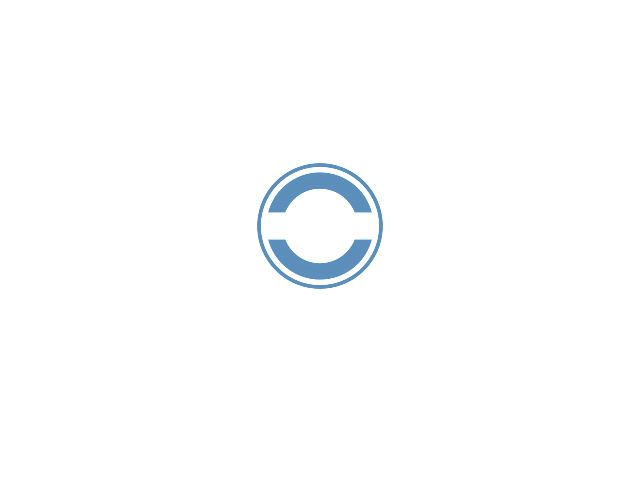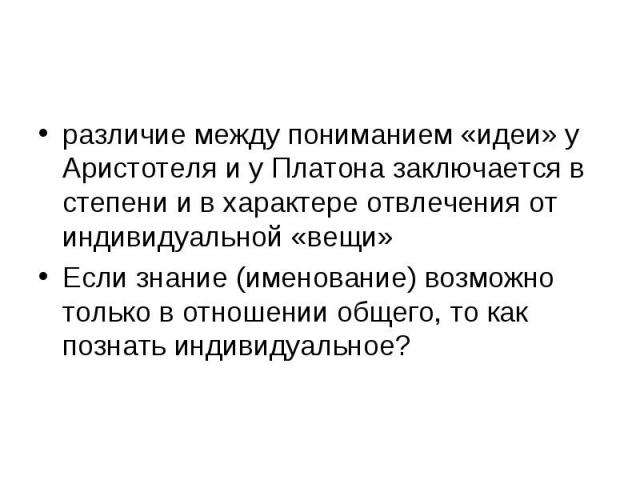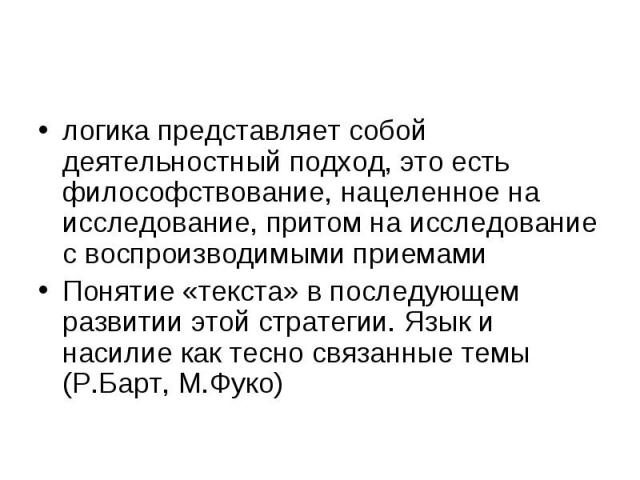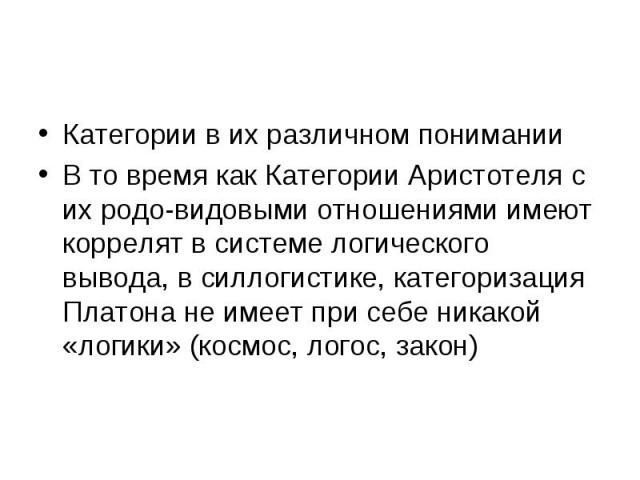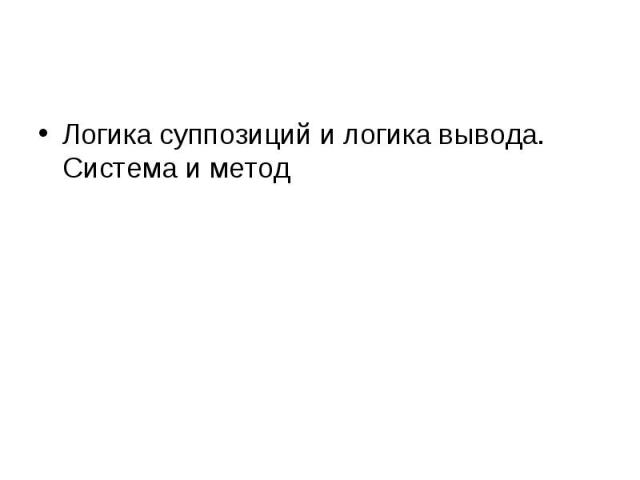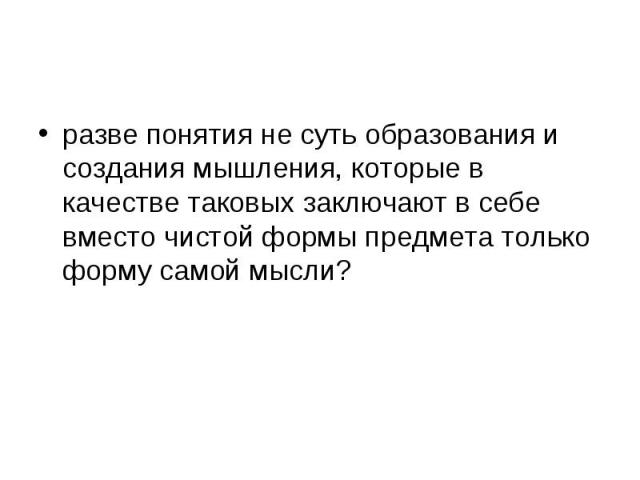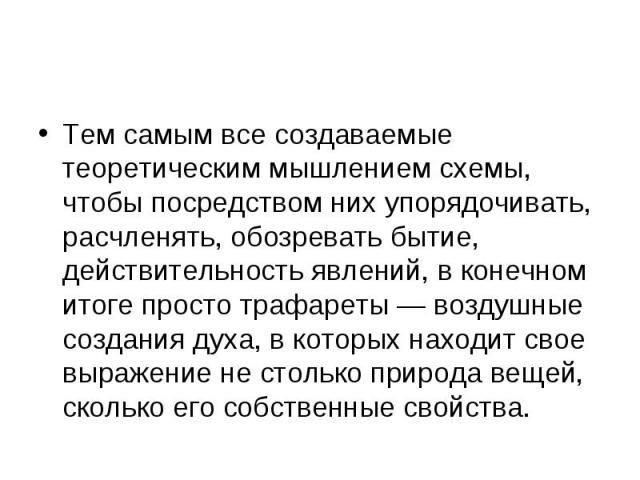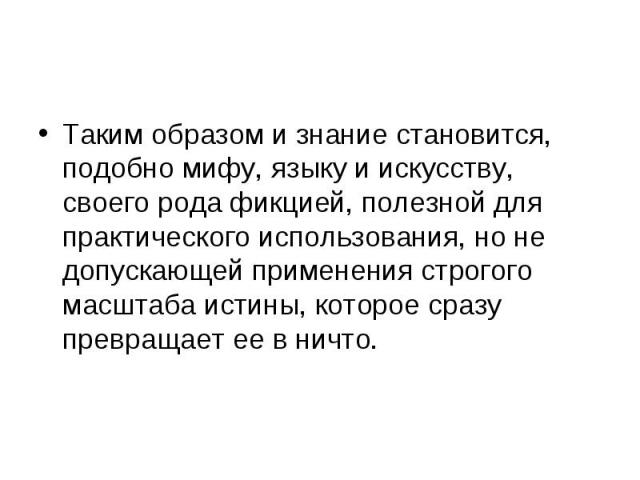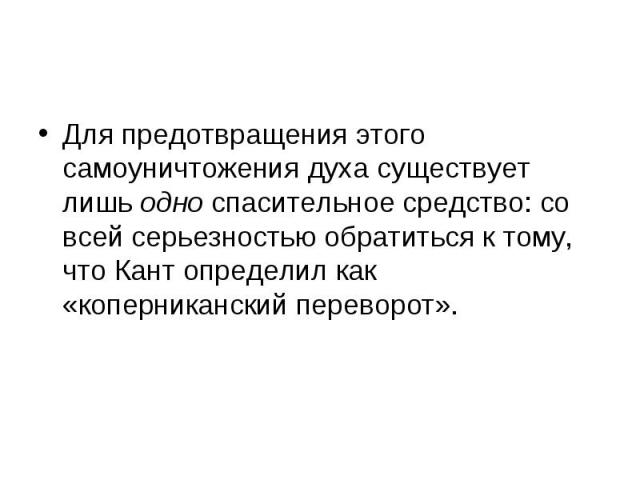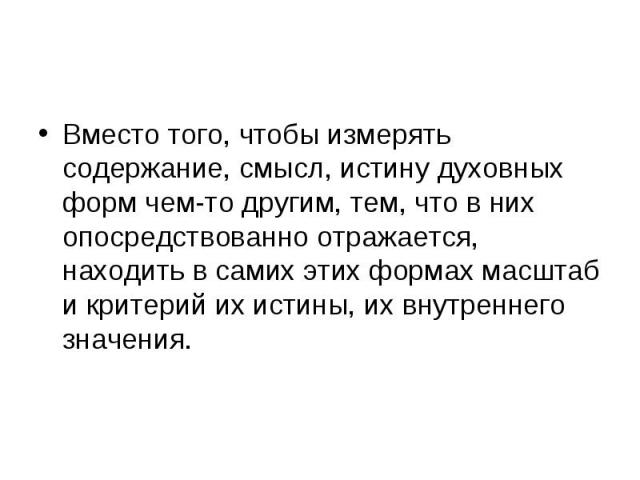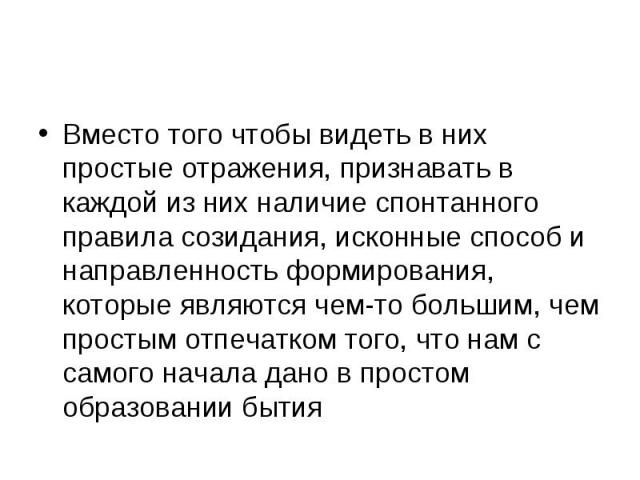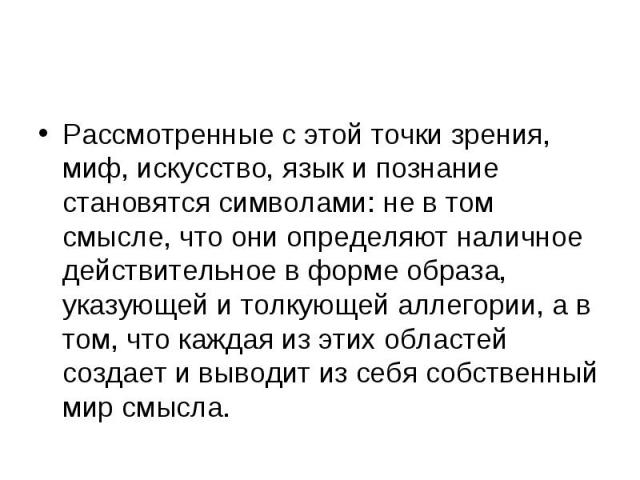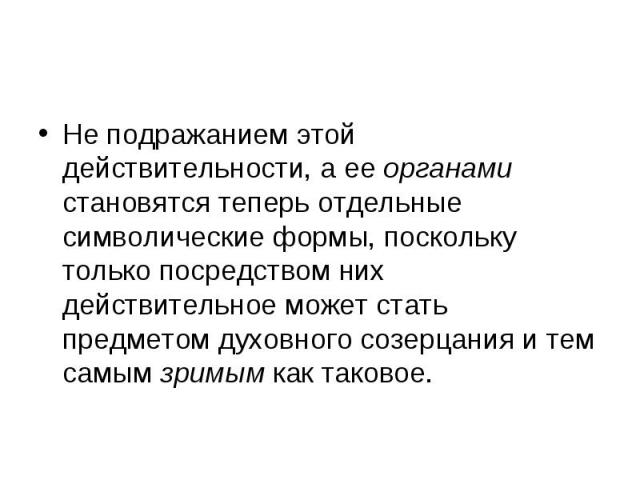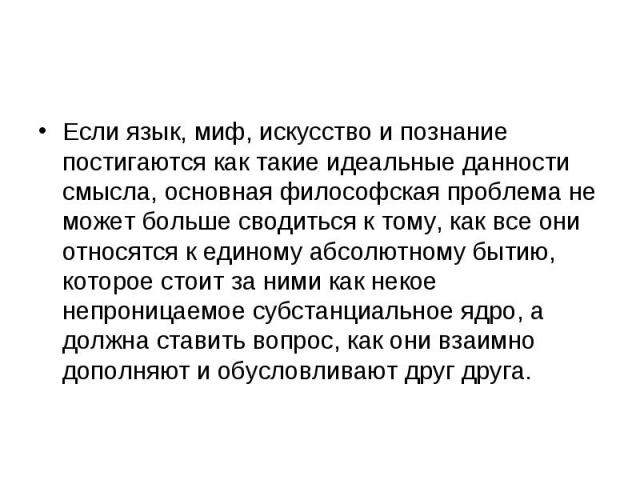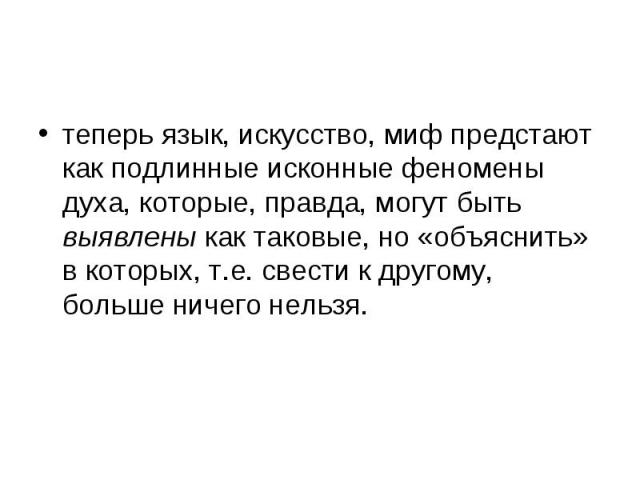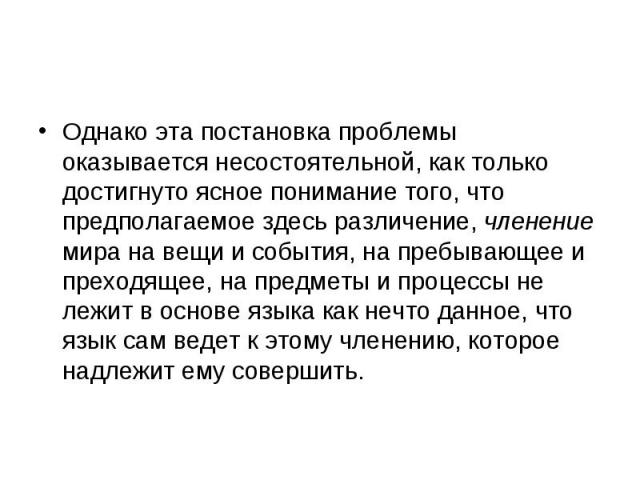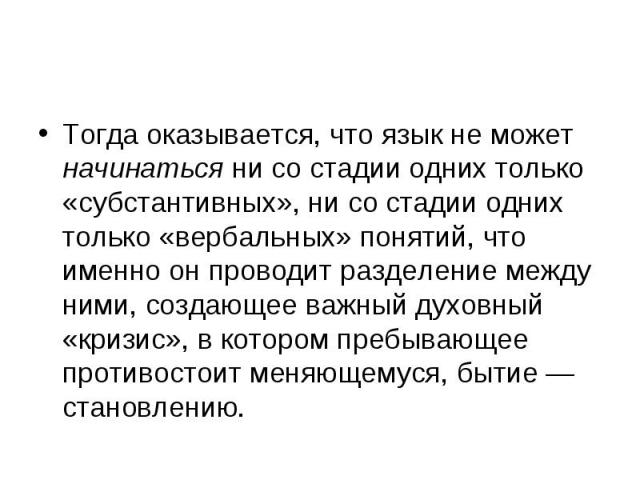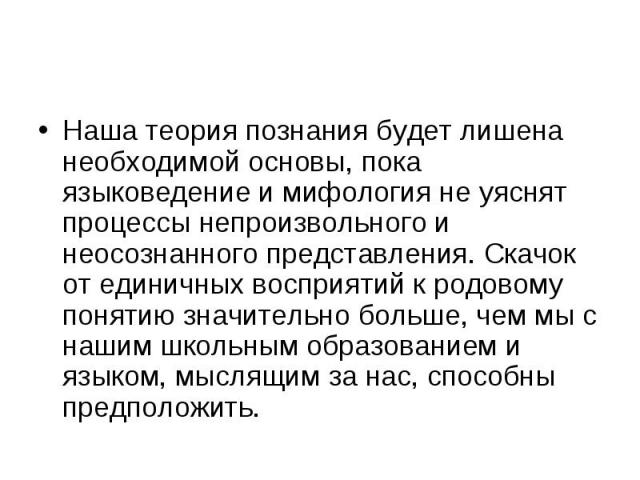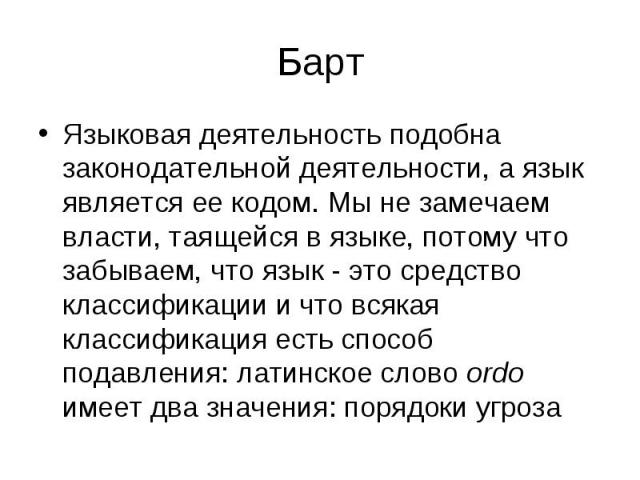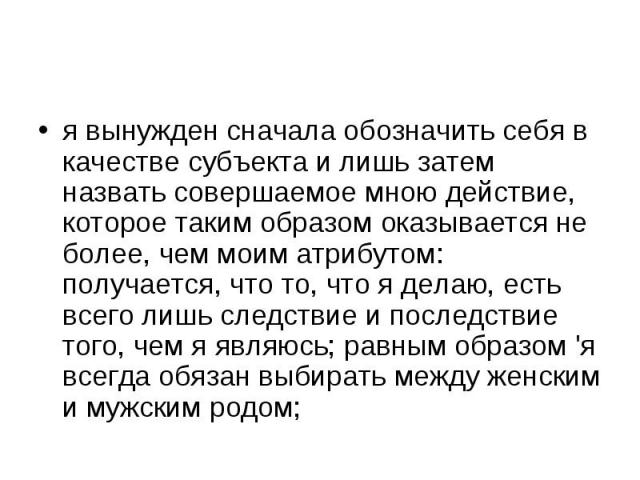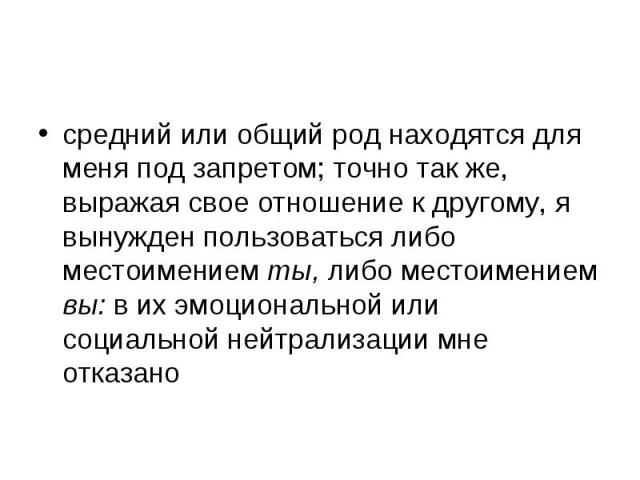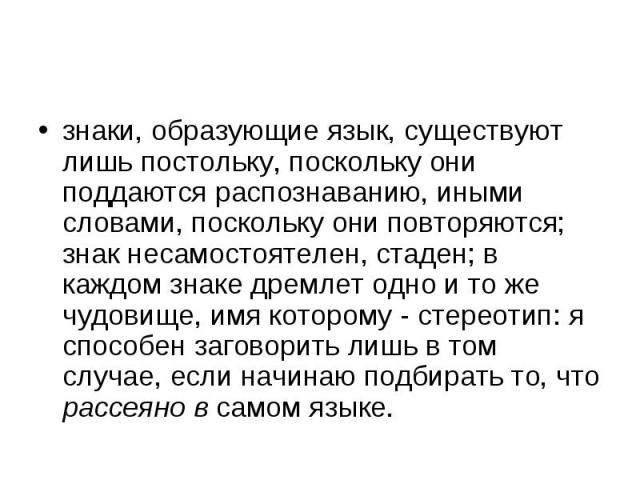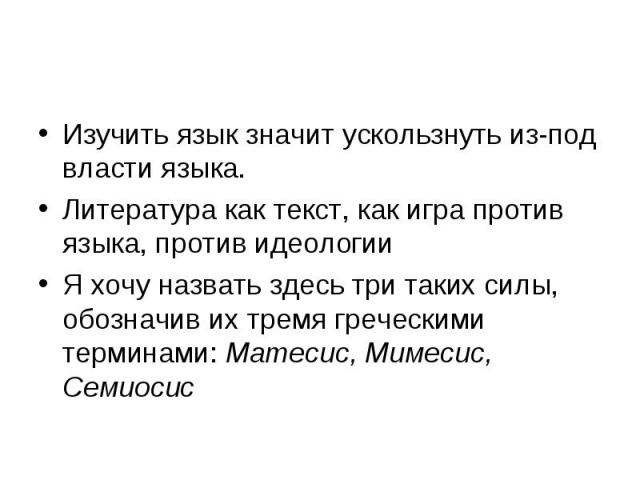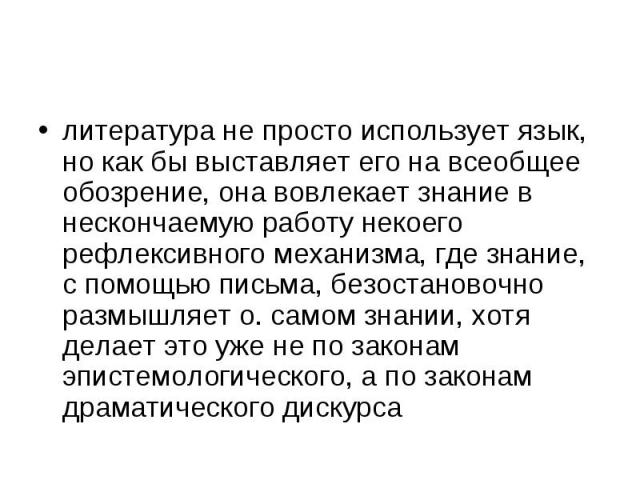Презентация на тему: СИМВОЛИСТЫ
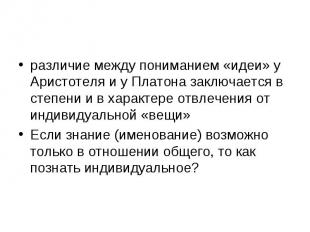
различие между пониманием «идеи» у Аристотеля и у Платона заключается в степени и в характере отвлечения от индивидуальной «вещи» Если знание (именование) возможно только в отношении общего, то как познать индивидуальное?
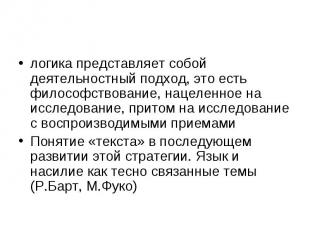
логика представляет собой деятельностный подход, это есть философствование, нацеленное на исследование, притом на исследование с воспроизводимыми приемами Понятие «текста» в последующем развитии этой стратегии. Язык и насилие как тесно связанные темы (Р.Барт, М.Фуко)
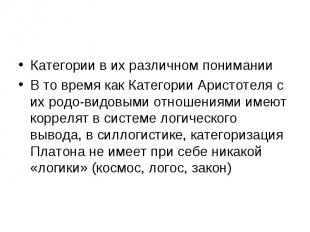
Категории в их различном понимании В то время как Категории Аристотеля с их родо-видовыми отношениями имеют коррелят в системе логического вывода, в силлогистике, категоризация Платона не имеет при себе никакой «логики» (космос, логос, закон)
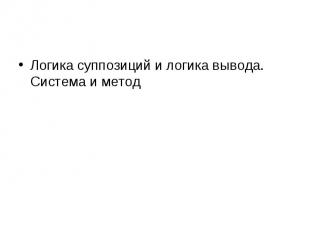
Логика суппозиций и логика вывода. Система и метод
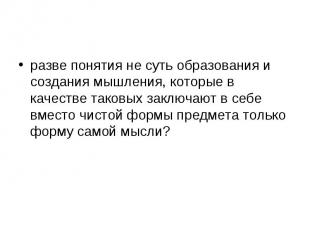
разве понятия не суть образования и создания мышления, которые в качестве таковых заключают в себе вместо чистой формы предмета только форму самой мысли?
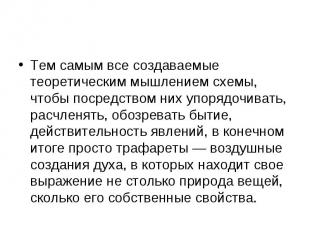
Тем самым все создаваемые теоретическим мышлением схемы, чтобы посредством них упорядочивать, расчленять, обозревать бытие, действительность явлений, в конечном итоге просто трафареты — воздушные создания духа, в которых находит свое выражение не столько природа вещей, сколько его собственные свойства.
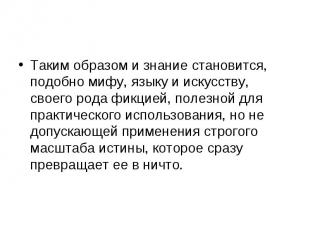
Таким образом и знание становится, подобно мифу, языку и искусству, своего рода фикцией, полезной для практического использования, но не допускающей применения строгого масштаба истины, которое сразу превращает ее в ничто.
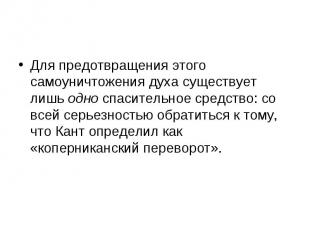
Для предотвращения этого самоуничтожения духа существует лишь одно спасительное средство: со всей серьезностью обратиться к тому, что Кант определил как «коперниканский переворот».
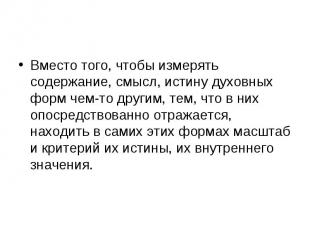
Вместо того, чтобы измерять содержание, смысл, истину духовных форм чем-то другим, тем, что в них опосредствованно отражается, находить в самих этих формах масштаб и критерий их истины, их внутреннего значения.
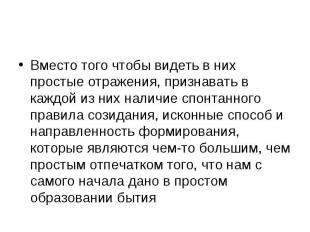
Вместо того чтобы видеть в них простые отражения, признавать в каждой из них наличие спонтанного правила созидания, исконные способ и направленность формирования, которые являются чем-то большим, чем простым отпечатком того, что нам с самого начала дано в простом образовании бытия
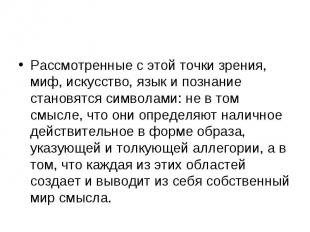
Рассмотренные с этой точки зрения, миф, искусство, язык и познание становятся символами: не в том смысле, что они определяют наличное действительное в форме образа, указующей и толкующей аллегории, а в том, что каждая из этих областей создает и выводит из себя собственный мир смысла.
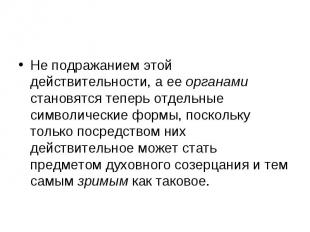
Не подражанием этой действительности, а ее органами становятся теперь отдельные символические формы, поскольку только посредством них действительное может стать предметом духовного созерцания и тем самым зримым как таковое.
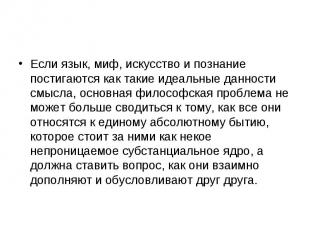
Если язык, миф, искусство и познание постигаются как такие идеальные данности смысла, основная философская проблема не может больше сводиться к тому, как все они относятся к единому абсолютному бытию, которое стоит за ними как некое непроницаемое субстанциальное ядро, а должна ставить вопрос, как они взаимно дополняют и обусловливают друг друга.
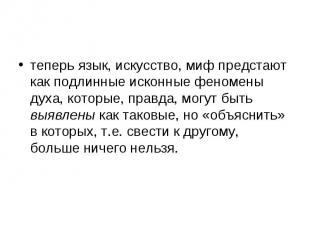
теперь язык, искусство, миф предстают как подлинные исконные феномены духа, которые, правда, могут быть выявлены как таковые, но «объяснить» в которых, т.е. свести к другому, больше ничего нельзя.
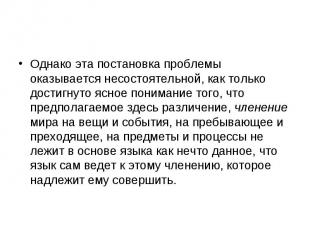
Однако эта постановка проблемы оказывается несостоятельной, как только достигнуто ясное понимание того, что предполагаемое здесь различение, членение мира на вещи и события, на пребывающее и преходящее, на предметы и процессы не лежит в основе языка как нечто данное, что язык сам ведет к этому членению, которое надлежит ему совершить.
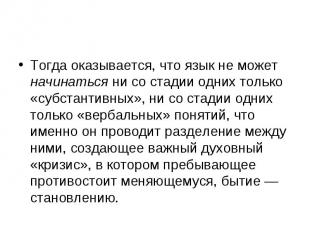
Тогда оказывается, что язык не может начинаться ни со стадии одних только «субстантивных», ни со стадии одних только «вербальных» понятий, что именно он проводит разделение между ними, создающее важный духовный «кризис», в котором пребывающее противостоит меняющемуся, бытие — становлению.
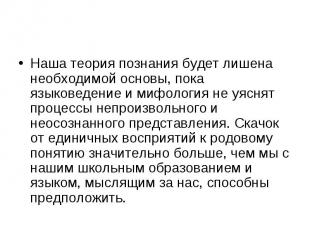
Наша теория познания будет лишена необходимой основы, пока языковедение и мифология не уяснят процессы непроизвольного и неосознанного представления. Скачок от единичных восприятий к родовому понятию значительно больше, чем мы с нашим школьным образованием и языком, мыслящим за нас, способны предположить.

Барт Языковая деятельность подобна законодательной деятельности, а язык является ее кодом. Мы не замечаем власти, таящейся в языке, потому что забываем, что язык - это средство классификации и что всякая классификация есть способ подавления: латинское слово ordo имеет два значения: порядоки угроза
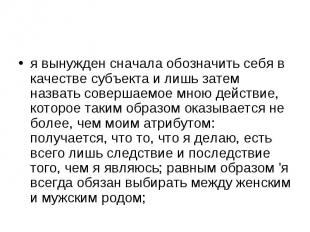
я вынужден сначала обозначить себя в качестве субъекта и лишь затем назвать совершаемое мною действие, которое таким образом оказывается не более, чем моим атрибутом: получается, что то, что я делаю, есть всего лишь следствие и последствие того, чем я являюсь; равным образом 'я всегда обязан выбирать между женским и мужским родом;
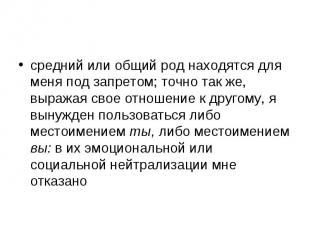
средний или общий род находятся для меня под запретом; точно так же, выражая свое отношение к другому, я вынужден пользоваться либо местоимением ты, либо местоимением вы: в их эмоциональной или социальной нейтрализации мне отказано
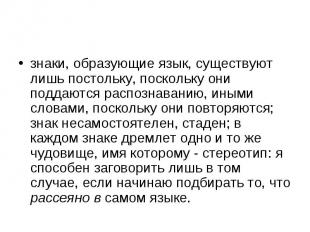
знаки, образующие язык, существуют лишь постольку, поскольку они поддаются распознаванию, иными словами, поскольку они повторяются; знак несамостоятелен, стаден; в каждом знаке дремлет одно и то же чудовище, имя которому - стереотип: я способен заговорить лишь в том случае, если начинаю подбирать то, что рассеяно в самом языке.
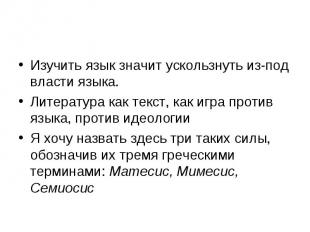
Изучить язык значит ускользнуть из-под власти языка. Литература как текст, как игра против языка, против идеологии Я хочу назвать здесь три таких силы, обозначив их тремя греческими терминами: Матесис, Мимесис, Семиосис
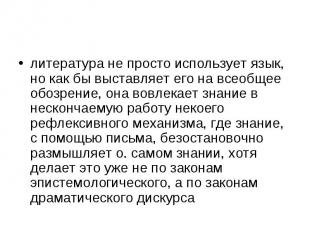
литература не просто использует язык, но как бы выставляет его на всеобщее обозрение, она вовлекает знание в нескончаемую работу некоего рефлексивного механизма, где знание, с помощью письма, безостановочно размышляет о. самом знании, хотя делает это уже не по законам эпистемологического, а по законам драматического дискурса